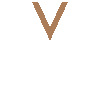«Мы как джазовые музыканты» — о сортах, климате и коллективном мышлении

Михаэль Моосбруггер, управляющий Schloss Gobelsburg, встречает у дверей винодельни
Иногда интервью начинается с маленького приключения: не те поезда, не те пересадки, дорога в никуда — в буквальном смысле, между виноградниками и придорожной таверной на станции Гедерсдорф. Но замок и одновременно старинная австрийская винодельня «Шлосс Гобельсбург» (Schloss Gobelsburg) встречает тишиной и умиротворением. Двери открываются, и навстречу выходит он — Михаэль Моосбруггер (Michael Moosbrugger), человек, способный обратить любое промедление в достоинство момента: «Не волнуйся, у нас есть время».

Schloss Gobelsburg на акварели: спокойствие старинной винодельни
Моосбруггер родом из знаменитой гостиничной семьи в Форарльберге. Уже почти три десятилетия он управляет «Шлосс Гобельсбург» — винодельней с более чем 850-летней историей. Но его роль выходит далеко за пределы одного хозяйства: как председатель Австрийской Ассоциации традиционных винодельческих хозяйств Österreichische Traditionsweingüter (ÖTW), он формирует представление о терруаре, происхождении и культурной идентичности австрийского вина в целом.
Его рассуждения — точны, глубоки и лишены пафоса. Пафос в Австрии вообще не приветствуется – все здесь дружелюбно на «ты», что так соответствует идее самих цистерцианцев: быть на одном уровне глаз с другим человеком.

Цистерцианцы в историческом погребе: корни строгих правил виноделия
— Михаэль, как ты смотришь на будущее виноделия — особенно в отношении сортов и органического производства?
Заглядывать в будущее непросто, но я убеждён: в ближайшие годы в вопросе сортов винограда произойдут серьёзные изменения — и не из-за климата. Основной толчок даёт «Зелёный курс» („Green Deal“) ЕС: к 2030 году мы должны сократить использование пестицидов на 50 %. В то же время мы стремимся к органическому производству — а оно, парадоксально, требует сегодня не меньше, а больше обработок. Двадцать опрыскиваний в год — это не выход. Цель — две-три обработки максимум. Не больше.
— Как работать с этим на практике?
Больше десяти лет назад мы начали совместный проект с институтом в Клостернойбурге: разрабатываем новые сорта на основе грюнер вельтлинера и рислинга, устойчивые к грибковым заболеваниям. Для нас важно не только то, чтобы сорт был устойчивым — но и чтобы у него была история, культурная преемственность. Этого как раз не хватает многим сортам PiWi (специально выведенные устойчивые к грибкам сорта винограда). Виноград без истории сложно объяснить потребителю — даже если он экологически оправдан.
— Работает ли ваше хозяйство над этим проектом в одиночку или в сотрудничестве с другими виноделами?
Нет, мы не одни. К проекту подключились винодельни Лоймер, Юрчич, Рабль, Топф. Мы вместе тестируем новые сорта на разных терруарах. Это даёт более надёжную картину, чем если бы мы всё делали только у себя.
— А как ты относишься к генной инженерии, например, к технологии CRISPR?
Скептически. Да, CRISPR позволяет точечно изменять ДНК, но это очень дорого и будет использоваться только для экономически выгодных сортов. Никто не станет модифицировать 300 клонов шардоне. Все менее популярные сорта просто исчезнут. Я считаю: путь должен быть естественным — как это было в виноделии веками. Инновации не должны происходить за счёт культурного разнообразия и идентичности.
— То есть ты веришь, что в будущем появятся новые «великие» сорта?
Абсолютно. Я много разговариваю с коллегами из разных стран — у каждого свой фаворит. Немцы говорят: рислинг. Французы: пино нуар и шардоне. И я говорю — хорошо, я это принимаю. Но правда состоит в том, а действительно ли мы верим, что после двух или пяти тысяч лет виноделия мы уже нашли идеал? Что рислинг — это и есть философский камень?
Для меня сорта не являются чем-то священным. Это не дар свыше и не финальная точка. Наша задача как виноделов — продолжать искать. Я уверен: однажды мы найдём что-то, что будет не менее великим. А может, даже и лучше.

Грозди Riesling на знаменитом склоне Heiligenstein в Камптале
Cегодня Хайлигенштайн, пожалуй, самый известный виноградник в Камптале. Но в условиях изменения климата возникает вопрос — не приобретут ли в будущем большее значение более прохладные участки, такие как Лойзерберг? Как ты видишь эволюцию терруаров в ближайшие 20–30 лет?
В конечном счёте рынок определяет, что считается великим. Такие участки, как Лойзерберг или ещё более прохладные, например в районе Тюрнберга, уже существуют. Каждый год проходят дегустации, ставятся оценки, вина покупаются. Если в какой-то момент любители вина начнут массово отдавать предпочтение Лойзербергу, а не Хайлигенштайну — это повлечёт за собой последствия. Спрос вырастет, и цены тоже.
— А какую роль здесь играет изменение климата?
Тема непростая. Климат — это не постоянная величина. В истории бывали периоды куда более тёплые, чем сейчас. Например, во времена Римской империи в нашей местности был почти субтропический климат. А в XIV веке виноградники занимали в четыре раза большую площадь, чем сегодня — вплоть до Тироля.
Затем пришло похолодание — так называемое «малый ледниковый период» в XVI–XVII веках. В 1601-1603 годы в России был «великий голод» и весь урожай погиб, и, по некоторым данным, от голода умерло около 4–5 миллионов человек. Сейчас мы снова переживаем потепление, но когда оно сменится очередным циклом, никто не знает.

Склон Гайсберг (Kamptal), октябрь: прохладные экспозиции и тонкий стиль
— То есть климатическое потепление влияет на регионы по-разному?
Да. Есть «проигравшие» — это южные регионы вроде Испании и Южной Италии, где винограду становится слишком жарко. А есть «выигравшие»: Австрия, Бельгия, Дания, юг Англии. У нас в последние десятилетия появилось больше стабильности, виноград стал лучше вызревать, открылись новые зоны для виноделия.
— А как ощущаются эти изменения на практике?
Наша реальность — это не статистический среднегодовой показатель. Наша реальность — это конкретный год, конкретная погода, конкретные условия. Бывают тёплые годы, бывают холодные, дожди, засухи — и мы должны быстро и точно на это реагировать. Это и есть наша работа.
Я занимаюсь виноделием почти 30 лет и ни один год не был похож на предыдущий. Мы как джазовые музыканты — должны постоянно импровизировать, подстраиваться под момент. И в этом — особая магия профессии.
— Как всё это влияет на виноградные сорта? Есть ли такие, что лучше адаптируются к переменам?
Сорт винограда — это как генетический талант. Но реализуется он только в подходящих условиях: на нужной почве, в нужный год, при правильной работе винодела.
Рислинг сам по себе не делает великого вина. Великим он становится, если растёт в выдающемся месте и попадает в опытные руки. То же касается и цвайгельта. Многие говорят: «это просто заурядное вино». Я считаю иначе. Если посадить цвайгельт в правильном месте и работать с ним всерьёз, он способен быть таким же выдающимся, как блауфранкиш.
— Почему же тогда у цвайгельта зачастую имидж «простого» вина?
Потому что на полках слишком много дешёвого цвайгельта. Если сорт никто не воспринимает всерьёз, его никто и не сажает на лучших участках. А без этого он никогда не раскроется. Это типичный пример самореализующегося предсказания.
— С твоей точки зрения, сложно ли продвигать грюнер вельтлинер на международном рынке, особенно в премиум-сегменте?
Всё зависит от того, что именно мы продаём. Если мы продвигаем название сорта, то с грюнером действительно трудно создать ощущение высокой ценности. Именно поэтому мы не указываем сорт на этикетке. Мы не продаём грюнер вельтлинер — мы продаём конкретные терруары: Ламм, Хайдигенштайн, Реннер, Гайсберг.
Если сомелье попробует хорошее вино, и оно его убедит — он будет с ним работать, неважно, какой это сорт. Главное — качество. Но и его мало: нужна история. Без неё само по себе ничего не продастся.
— Почему именно с грюнером вельтлинером это сложнее всего?
Потому что у него невероятно широкий стилевой диапазон — гораздо шире, чем у рислинга. Разница между базовым вином и, скажем, грюнером с участка Ламм — колоссальная. А у рислинга вкусовой спектр уже, он проще «упаковывается» в единое маркетинговое сообщение.
Чем шире разброс, тем сложнее продвигать сорт как единый бренд. Поэтому для нас система апелласьонов гораздо релевантнее, чем просто название сорта.
— То есть ты считаешь систему апелласьонов более точной, чем сортовую классификацию?
Однозначно. Сортовая система работает для тех, кто не слишком интересуется вином — например, покупает бутылку в супермаркете на следующую неделю. Тогда удобно сказать: «Я люблю шардоне больше, чем совиньон».
Но как только человек начинает интересоваться вином всерьёз, сорт как ориентир теряет смысл. Ему важны нюансы: откуда вино, почему оно именно такое, чем оно отличается от другого. Это уже культурный уровень, и он требует другой глубины. В этой точке сортовое мышление перестаёт работать, и начинает работать система происхождения.
— Есть ли риски в том, чтобы фокусироваться на одном сорте на уровне страны?
Да, безусловно. В 1990-х Австрия сделала ставку на грюнер вельтлинер — и это сработало. Особенно после громкой дегустации с участием Дженсис Робинсон. Но потом стало ясно: сорт нельзя защитить по месту происхождения. Вскоре его начали сажать в США, Австралии, Новой Зеландии, Венгрии, Чехии… Мы уже не одни.
Поэтому в начале 2000-х логичным шагом стало введение DAC (Districtus Austriae Controllatus) — системы, ориентированной не на сорт, а на происхождение. Это был важный поворот.
— Как удаётся сохранять хорошее взаимодействие между виноделами внутри системы апелласьонов, которую выстроила ассоциация ÖTW, несмотря на конкуренцию?
Конечно, было бы прекрасно, если бы всегда царила полная гармония — но это не так. Каждый винодел заинтересован в том, чтобы как можно лучше продавать свои вина. Но умные виноделы понимают: успех отдельного хозяйства часто зависит от общего успеха. Происхождение — это общее достояние.
— Что это означает на практике, например, для участка Хайлигенштайн?
Название «Хайлигенштайн» не принадлежит одному человеку. У него около 15 владельцев. Все они должны договориться о правилах: при каких условиях можно использовать это название. Именно это и регулируют законы апелласьона: что значит Кампталь, каким должно быть вино с участка Хайлигенштайн, какая стилистика и стандарт за этим стоит.
— То есть, чем строже определение, тем сильнее бренд?
Именно. С точки зрения маркетинга: чем чётче понятие, тем лучше оно работает. Если потребитель знает, что, заказывая «Хайлигенштайн», он получит сухое белое вино с определённым стилем — это создаёт доверие. А если под этим названием могут быть и красные, и белые, и розовые, и натуральные, и сладкие вина — ценность теряется.
— Как быть с производителями, которые идут своим путём, например, с натуральными винами?
Это непростой вопрос. Многие виноделы, производящие натуральные вина, не принимают коллективные решения — им важна свобода и индивидуальность. Но при этом они хотят продолжать использовать географическое название — например, писать на этикетке «Хайлигенштайн» на нефильтрованном вине.
Но происхождение — это общее понятие, и оно возможно только при наличии правил. Эти правила — не вечны: раз в пять лет переизбирается комитет происхождения (убрать слово происхождения), и вполне возможно, что стандарты изменятся. Но до тех пор действуют принятые договорённости.
— То есть напряжение между индивидуальностью и коллективом — это постоянная часть работы?
Да, совершенно верно. Это постоянный баланс между «я» и «мы». Но особенно в вопросах происхождения и совместного продвижения региона крайне важно уметь договариваться. Я убеждён, что те регионы, где виноделы умеют сотрудничать, в долгосрочной перспективе работают успешнее.
— Человек — это часть терруара?
Безусловно. Терруар — это не только почва, климат и погода. Это ещё и все человеческие решения, которые влияют на вино. Мы, виноделы, — часть окружающей среды. Всё, что мы делаем, прямо отражается в бокале.
— Какую роль при этом играет окружение, в котором работает винодел?
Это особенно интересно. Важно не только что человек решает, но и почему он так решает. И здесь большую роль играет коллективный контекст. Кампталь, Кремсталь, Трайзенталь — у каждого региона свой «дух», своя культура решений. И этот культурный фон влияет на выбор виноделов — осознанно или нет.
— Есть ли пример такого влияния?
Несколько лет назад мы начали экспериментировать с поздней обрезкой лоз — делать её не зимой, а в мае. Это сдвигает весь цикл развития винограда на две–три недели и, как оказалось, отлично защищает от весенних заморозков.
Прошлой весной весь участок Ламм был побит морозом — кроме нашего. Мы не обрезали лозы до конца апреля и в итоге собрали полноценный урожай. И что случилось? Соседи начали интересоваться, как мы это сделали. Теперь они тоже пробуют эту практику.
— Получается, виноделы учатся друг у друга — порой даже неосознанно?
Именно. Все следят за тем, что делают другие. Если кто-то применяет нестандартный подход — за этим внимательно наблюдают: работает это или нет? А если работает — начинают повторять.
То же самое происходило с методами обрезки. Раньше все перешли на «дугу» — это считалось самым современным. А теперь всё больше хозяйств возвращаются к старому «кордону». Это и есть живая коллективная динамика в виноделии — неформальная, но реальная.
— Как ты видишь будущее австрийского зекта, сделанного традиционным методом?
В мире уже есть несколько региональных центров игристых вин — Шампань, Франчакорта, Кава. В Австрии постепенно формируется культура качества зектов, и, на мой взгляд, Лангенлойс имеет наибольший потенциал стать таким центром. Здесь удивительно высокая концентрация хозяйств, которые делают всё сами — не отдают производство на сторону. Это редкость.
Я регулярно поднимаю эту тему, но пока не уверен, готовы ли сами виноделы коллективно выстраивать единую идентичность для зекта. Но если где-то это возможно, то именно в Лангенлойсе.
— Что дало тебе личное погружение в историю Гобельсбурга за эти 30 лет?
Главное, что я понял: сегодня у нас бесконечное количество возможностей. Раньше было иначе. Виноделие было строго регламентировано — например, сбор урожая начинался только тогда, когда это разрешало сообщество. Каждый знал, что, когда и как он должен делать.
А сегодня можно всё: собирать раньше или позже, работать с амфорой, с бетоном, делать редуктивный стиль или оксидативный. Это даёт свободу — но требует ориентиров. Особенно остро я почувствовал это во время реконструкции погреба. У цистерцианцев были очень точные архитектурные предписания: формы, материалы, цвет. Это был своего рода внутренний компас.

Архитектурная деталь в Schloss Gobelsburg: внимание к форме, материалам и цвету
Я часто задавал себе вопрос: а как бы они поступили тогда? Этот вопрос стал для меня ориентиром. Не из-за религиозных догм — а потому что, по сути, религия даёт этическую систему координат. Она помогает принять решение не ради выгоды, а ради смысла.
— Как это отражается в подходе к самому Гобельсбургу как винодельне?
Гобельсбург для меня — больше, чем просто винодельня. Мы несём в себе 850 лет истории виноделия. Я не принимаю решения, исходя из личного настроения. Я всегда спрашиваю: откуда мы пришли и какой следующий шаг будет органичным в развитии хозяйства?
Это отличает Гобельсбург от многих других виноделен, особенно семейных. У Фреда Лоймера или у Юрчича — весь стиль винодельни напрямую выражает личность владельца. И это абсолютно правильно. Но Гобельсбург не обо мне. Это история, за которую я чувствую ответственность.
— Как ты видишь будущее «исторических вин», таких как юбилейные, которые создает хозяйство?
Я не думаю, что они станут основным направлением. Несмотря на нашу историю, мы живём в XXI веке. А вино всегда отражало дух своей эпохи — будь то античность, средневековье или XIX век. Стиль вина неизбежно связан с обществом и временем.
Но у нас есть обязанность — не потерять опыт прошлых поколений. Многие говорят, что хотят «делать как раньше», но при этом совсем не знают, как это «раньше» выглядело. Поэтому должны быть винодельни, которые сохраняют это знание — чтобы оно не исчезло.
— А как ты относишься к натуральным винам?
С большим уважением. Есть молодые виноделы, которые делают прекрасные натуральные вина. Я вообще считаю, что такие движения важны: они подталкивают нас к новым стилям, заставляют переосмысливать подход.
Но Гобельсбург работает иначе — мы больше обращаемся к историческим формам, чем к радикально новым. Мне было бы по-настоящему интересно, если бы появилась система апелласьонов, основанная на философии натурального вина. Где это не просто выбор одного винодела, а осознанная коллективная идентичность.
Вот тогда это действительно станет серьёзным и устойчивым явлением — не только модой, а выражением происхождения и культуры.
— И напоследок пара «личных» вопросов. Правда ли, что ты каждый день играешь на фортепиано?
Да, я действительно играю почти каждый день. Чаще всего — Баха и Шуберта, но также Гайдна, Моцарта, Бетховена, иногда Брамса. Сейчас разбираю прелюдии и фуги Шостаковича. Это такой мой музыкальный круг.
— Ты – большой ценитель оперы. С чего бы ты посоветовал начать тем, кто хочет с ней поближе познакомиться?
Путь в оперу у каждого свой. Кто-то влюбляется с комедии — например, «Фальстаф» или «Кавалер розы», а кто-то — с трагедии вроде «Тоски», «Турандот» или «Нормы».
Я сам пришёл к опере довольно поздно — через Андреа Бочелли, который создавал мост между поп-музыкой и классикой. У меня была подборка арий из разных опер, с неё всё началось. Сейчас моя любимая — «Кавалер розы». Она умная, ироничная, с прекрасной музыкой. Очень венская по духу.
— Твоя семья — из индустрии гостеприимства. Что это дало тебе в твоей нынешней работе?
Многое. Если ты сам работал сомелье, ты понимаешь, как он думает, что ему нужно. Отсюда и винная карта, и брошюра ÖTW — всё это родилось из желания сделать что-то практичное и полезное для тех, кто работает с вином. И я получаю много обратной связи — люди говорят: «Вот именно это нам и было нужно».
— А в общении с людьми в целом?
Гостиница — это маленький мир. Там быстро учишься быть внимательным, реагировать на тонкие сигналы, предугадывать потребности. Этот навык остался со мной и сегодня — он помогает не только в продажах, но и в повседневной работе.
— Есть ли книга, которая тебя особенно тронула?
Да — «Джентльмен в Москве» Амора Тоулза. Это невероятно тёплая история о русском графе, которого после революции не расстреляли, а поселили под домашний арест в отель «Метрополь». Через его судьбу разворачивается вся история Советского Союза — до времён Сталина. Очень человечная, тонкая книга. Рекомендую.
— Михаэль, спасибо за разговор.
Отдельное спасибо всем, кто помогал в подготовке интервью своими вопросами и вниманием: Влад Волков, Влада Лесниченко, Виктория Куринная, Елена Крутова, Алексей Грустливый и Виталий Букин.